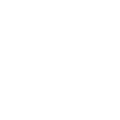Почему дети и родители иногда меняются местами, и какие могут быть последствия у такого явления: «Литтлван» обсудил с психологом Марией Иртугановой парентификацию.

Мария Иртуганова — детский психолог, гештальт-терапевт. Ведет блог «ВКонтакте».
«Это не диагноз, а термин…»
— Давайте начнем с определения…
— Сейчас очень модно давать название какому-либо явлению в области психологии, и далее оно уходит в люди: используется для самодиагностики или установления диагноза другим на основании минимальной схожести ситуации. Раньше, например, расхожим диагнозом было понятие «истеричка». Сейчас народный словарь обогатился терминами «абьюзер», «токсичность», «нарциссизм» и подобными. Человек часто использует авторитетное название, и на душе у него становится полегче. А вот улучшению отношений это обычно не способствует.
Поэтому, обсуждая понятие парентификации, имеет смысл помнить, что это не диагноз, а термин, который обозначает определенную тенденцию в отношениях родителей и детей. Вариантов ее проявления — бесконечное множество. В связи с этим важно рассматривать каждый отдельный случай отношений и не спешить с обобщениями.
— Так что же такое парентификация?
— Это особая конфигурация взаимоотношений, когда ребенок осваивает родительские функции и заботится о своих взрослых. Простыми словами, дети и родители меняются ролями.
— Как это может выглядеть на практике?
— Дети начинают заботиться о родителях. Эта забота может проявляться в разных стилях, так же, как и в родительском воспитании: от авторитаризма до гиперопеки. Перекос может возникать в отдельных сферах, при этом в других областях будет сохраняться здоровая иерархия «родитель-ребенок».
Когда мы наблюдаем эту картину со стороны, может показаться — какой молодец, сознательный ребенок. Однако эта внешняя нормальность достигается дорогой ценой.
— Чем это опасно?
— В этом случае истинного взросления не происходит. Ребенок, в силу возраста, не может осмысленно делать выбор и брать на себя ответственность за другого. Он оказывается нагружен непосильной ношей.
— Почему же он не может взрослеть по-настоящему?
— Для нормального, естественного развития ребенка необходимо ощущение безопасной среды. Безопасность — самая важная потребность, и, если она не удовлетворена, все остальное откладывается. Ребенок вынужден направлять свои ресурсы — время, силы, энергию — не на собственное взросление, а на обеспечение своей безопасности: как он это понимает. Значит, в его развитии мы можем ожидать определенные дефициты.
— Что это значит?
— Что ребенок чему-то не уделил время, какие-то навыки не натренировал, какие-то познания не получил. Занимающийся не собой, а взрослыми, он вообще не очень замечает свои потребности: все его внимание, часто бессознательно, сосредоточено на том, чтобы вернуться к ощущению безопасности. Так накапливается неудовлетворенность в других сферах его жизни.
— Эти последствия на всю жизнь?
— Нет однозначного ответа: мы не можем знать, как будет устроена его жизнь в дальнейшем. Поэтому опять говорим лишь о тенденции: такие дети в будущем не очень умеют отдыхать, веселиться и радоваться жизни. Как правило, они тратят силы только на важную необходимость, могут быть подвержены депрессиям. Им придется проделать большую работу, чтобы узнать себя, свои вкусы и аппетиты и научиться ставить в приоритет опять-таки себя, а не другого.
Освоенные в детстве навыки становятся автоматическими. Так, они будут продолжать сканировать других, чтобы поддерживать их благополучное состояние, вместо того, чтобы быть внимательными к себе. Им в принципе будет сложно взаимодействовать с другими на равных: они скорее склонны опекать, брать на себя чересчур много ответственности, им трудно доверять миру и людям. Они могут быть очень успешны в работе, но есть риск, что ими будут пользоваться.

«Детей не очень-то просто заставить поменяться ролями»
— Каковы возможные причины парентификации?
— Чаще всего это связано с бессознательными процессами в отношениях. Просто так детей не очень-то просто заставить поменяться ролями. Чтобы нарушилась естественная иерархия, должно что-то произойти в жизни ребенка, что заставит его психику действовать по-другому. И, скорее всего, это будет переживание страха: когда он теряет ощущение безопасности, беззаботности, беспечности. Это естественное детское состояние прерывается в результате какого-то события или стабильно сложных для ребенка отношений, которые переживаются как опасные, недостаточно скрепленные любовью к нему. Это не обязательно физическая опасность, может быть и эмоциональная. На самом деле, ситуация в отношениях может быть и не сложной совсем, но в силу детского менталитета ребенок будет ее воспринимать как опасную.
— Получается, любой испуг ребенка — риск возникновения парентификации?
— Нет, испуга недостаточно. Более веским фактором смены иерархии в отношениях между детьми и родителем является то, как последний обращается со своей властью: берет ее, делегирует ребенку или же хаотично использует... Никакой угрозы вообще может не быть. Перекос случится из-за того, родитель отдает ребенку власть в решениях, касающихся жизни семьи.
Если же ребенок действительно чего-то сильно испугался, его первая, инстинктивная реакция — бежать к своим взрослым, искать у них защиту. Но если он не находит у них поддержку и помощь, тогда возникают условия, когда отношения могут начать развиваться в сторону парентификации. Или же какие-то проявления самих взрослых могут переживаться ребенком как угрожающие ему в чем-то. Так или иначе, ребенок в какой-то момент теряет чувство беспечности и уверенности, что как-то с помощью взрослых ситуация разрулится. И это заставляет его остановить процесс своего развития и начать делать что-то, необходимое, как ему кажется, для изменения жизненной ситуации.
— Приведите самые частые примеры ошибок родителей, которые могут вести к парентификации.
— Мама или папа нагружает ребенка избыточной ответственностью, транслируя, что он должен быть помощником, заботиться о младших, помогать. Объем требований может быть ему не под силу. А необходимость в одобрении взрослого приводит к тому, что ребенок начинает стараться вписываться в ожидания родителей.
Другая ситуация: родитель эмоционально делится с ребенком своими переживаниями, сливает свои чувства, будучи уставшим, раздраженным, расстроенным. Представьте, что вы входите в здание и видите, что его стены перекошены, оно как будто вот-вот рухнет. Именно так чувствует себя ребенок, когда видит, что родитель охвачен тяжелыми переживаниями. Его реакция — поскорее сделать что-то, чтобы дотянуть взрослого до спокойного состояния и продолжить жить свою нормальную детскую жизнь. Так он учится слушать, поддерживать разговор. У него может даже развиться хорошее чувство юмора, если он заметит, что шутки выводят родителя из подавленности. И последний может начать неосознанно пользоваться этим.
— Получается, нужно прятать от ребенка свои негативные эмоции?
— Нет, делиться с ребенком можно и иногда даже нужно. Вполне нормально сказать: «Я расстроена, поругалась с подругой». Но дальше ребенок не должен пытаться вас спасать, утешать, развлекать. Он должен чувствовать, что несмотря на трудности, вы справляетесь, а если нет, то можете найти помощь. Это жизненно важно для любого ребенка. Ведь это значит, что и о нем родитель сможет позаботиться.
— Если родитель спокоен, значит, и ребенок будет чувствовать себя в безопасности?
— Тоже не всегда.
— Но как отличить нездоровую взрослость у ребенка от нормальной самостоятельности?
— Важно обращать внимание на эмоциональное состояние. Смотрим на уровень тревожности: часто ли он сильно волнуется, боится с чем-то не справиться. Склонен ли он ощущать вину, если что-то не получается. Если ребенок сам берет на себя большую нагрузку — уточняйте мотивацию: из интереса или из тревоги? Проверяем баланс: допустим, ответственность он проявляет, а умеет ли он беззаботно играть и веселиться? Есть ли у ребенка время и способность проводить время бесполезно?
Еще наблюдаем, как он реагирует на состояние взрослого. Если, например, родитель болен, а ребенку уже 11 лет, то нормально, что он сам делает какие-то домашние дела, когда мама не может. Если он при этом не оставляет свою детскую жизнь, не задвигает свои потребности насовсем. Если же он чувствует вину, не идет гулять с друзьями, потому что маме грустно, это показатель того, что ребенок заботится о родителе за счет своего развития.
«Проблема — в бессознательном автоматизме действий»
— В каком возрасте чаще возможно возникновение парентификации, и как опять-таки отличить ее от подростковой сепарации, пубертата и его проблем?
— Возраст значения не имеет. Важно то, какие внутренние и внешние условия жизни ребенка сложились так, что он начинает заботиться о родителях, как о детях малых. И какие последствия от этого имеет.
В подобных вопросах заложена надежда на возможность получения ясности — некой линейки, которой можно потом измерять ситуации и легко отличать одно от другого, избавляясь от сомнений и неопределенности. Однако я вынуждена оставить вас в неопределенности, так как верю, что каждая ситуация уникальна и именно так стоит подходить к ее исследованию — без измерительных приборов.
— Что делать родителям, которые заметили признаки парентификации?
— Вначале желательно взять паузу и в течение 3-4 недель понаблюдать. Какие именно проявления, свои и ребенка, вы относите к парентификации? Что вам кажется неправильным в этих проявлениях? Какие зоны ответственности у вашего ребенка, а какие у вас? Почему так сложилось? Если вы склонны искать уязвимости в своей родительской функции, то наблюдение и сверка с реальностью должны быть еще более кропотливы.
Возможно, лучше начать с консультации психолога, чтобы сориентироваться в том, насколько ваши впечатления соответствуют реальности. Важно разговаривать с ребенком о его мечтах и желаниях, возможностях их осуществления, о том, что ему по душе и что нет в вашем семейном укладе.
Но и эти фокусы внимания не могут предусмотреть разные вариации парентификации.
Сложно давать общие рекомендации родителям, так как я не знаю, как они их поймут и будут исполнять. Я встречалась с удивительным восприятием рекомендаций психологов. Например, сейчас много говорят о том, что важно давать ребенку свободу выбора. И приходит измученная друг другом семья: взрослый честно старается дать сыну или дочке возможность выбирать, даже там, где тот (или та) не хочет или ему (ей) сложно. Выбора «не выбирать» при этом не остается. И родителю тяжело — он старается, как лучше, а получается конфликт.